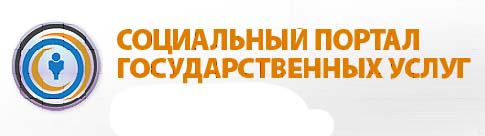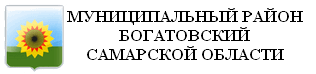В год 75-летия Победы автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Восточного округа» готовит к изданию книгу, в которую войдут материалы о подопечных Центра – ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла. Одна из героинь этой книги – Мария Владимировна Бондарева – делится сегодня своими воспоминаниями.
Мария Владимировна – замечательная рассказчица. В свои 92 года она помнит столько имен, дат, интересных подробностей каких-то событий, что просто диву даешься. Она разговаривает с легким украинским акцентом. Когда особенно волнуется, щедро пересыпает свою речь милыми украинскими словечками, и это действует на слушателя завораживающе. Теряется ощущение реальности, ты словно бы становишься участником тех давних событий.
— Жили мы в Винновке. Когда война началась, хлеб не убран еще был, а мужики на фронт ушли. Вот мы, дети, и были главными работниками в поле. А силёнки-то у нас какие! Не успели. Остался в зиму. На дровнях поедем в поле – мороз, ветер, а куда деваться – едем. Найдем бугорок, разроем – там снопы, погрузим их и к комбайну везем молотить. Так и ездим, пока не окоченеем совсем.
Отец у меня бригадиром был. На фронт его забрали в конце 42-го, а 1 января 43-го меня отправили в ФЗО учиться на штукатура. Нас было три девчонки и семь мальчишек, все из соседних деревень. Привезли нас на Безымянку. Мы ручек набрали, думали, учить будут, а нас заставили убираться в общежитиях, где пленные немцы жили. Они устроили отхожее место в одной из комнат – вот и ее мы тоже чистили: мальчишки ломами кололи, а мы те комья выносили. Два месяца так работали. Потом учить нас стали. Восемь месяцев мы продержались и решили с подружкой (ее тоже Марусей звали) сбежать. Уж больно голодно и трудно было. Дадут суп, а в нем две картошины плавают и черви огромные.
 Ушли мы куда глаза глядят. И попали на завод какой-то. Встретили нас дядьки пожилые. Оказалось, все они хохлы. Ну и пожалели нас, приняли как родных, даже не спросили, откуда мы, никакого документа не потребовали. Это были начальник штаба и командир роты, которая охраняла авиационный завод. Обрадовались они нам. Людей в охране не хватало, работали все пожилые, от усталости в обморок подали – смены по 10-12 часов были. Мы все это испытали потом. Пока в карауле стоишь, ноги так опухают, что обувь еле снимешь. А снимешь – не обуешь.
Ушли мы куда глаза глядят. И попали на завод какой-то. Встретили нас дядьки пожилые. Оказалось, все они хохлы. Ну и пожалели нас, приняли как родных, даже не спросили, откуда мы, никакого документа не потребовали. Это были начальник штаба и командир роты, которая охраняла авиационный завод. Обрадовались они нам. Людей в охране не хватало, работали все пожилые, от усталости в обморок подали – смены по 10-12 часов были. Мы все это испытали потом. Пока в карауле стоишь, ноги так опухают, что обувь еле снимешь. А снимешь – не обуешь.
Нас с Маруськой тогда сразу – в смену: меня в первый караул, ее во второй.
Через неделю пришли из ФЗО нас разыскивать. Начальники наши — к нам, спрашивают:
— Дочки, откуда вы сбежали?
Мы в слёзы.
— Не плачьте. Ходите в центре строя, вас и не видно будет. А если по одному, шапку надвигайте на глаза.
Не выдали они нас.
Жили мы в общежитии. Комнаты в нем двухнарные, нары деревянные, поэтому клопов там было тьма-тьмущая. А мы ж с Маруськой штукатуры как-никак, побелили всё, поморили чем-то. Устали выметать потом тех клопов. Всё-таки пожалели нас – нары убрали, поставили кровати железные. Такая радость. Хоть высыпаться стали.
Рядом с нашим общежитием немцы пленные жили – прямо через забор. Разговаривать с ними запрещалось, а они всё просили нас папиросы им купить. «Девчата, — говорят, — мы не виноватые, мы никого не убивали». Комвзвода сильно ругался, если мы даже просто около того забора останавливались.
Воришки нас частенько донимали. Голод ведь был ужасный, надеялись чем-нибудь поживиться. Если замечали их, должны были начальству сказать. А они ж все старые, пока соберутся да спустятся, я уже – на месте преступления. Боевая была, бесстрашная. Если б не была такой, не послали самолет сопровождать в Москву. Дважды ездила – в марте и в апреле. И Маруся моя со мной. Она на одной платформе самолет охраняет, я – на другой. Выдали нам белые тулупы с черными воротниками, винтовки, пистолеты. Когда выезжали с завода, я попросила машиниста дать гудок, козырнула и крикнула:
— Ну, папаши, до свидания!
А они аж прослезились:
— Что же это такое! Детей ведь отправляем!
Стоим на станции, ждем, когда паровоз подцепят. Люди обступили, норовят на платформу залезть. А у нас инструкция – никого не пускать, груз-то военный. Пыталась ругаться грозно – бесполезно. Лезут всё настойчивей. Я достала пистолет и выстрелила в воздух. Люди разбежались, и начальник станции тут как тут.
— Кто стрелял?!
— Я стреляла. Где у вас тут телефон? Я сейчас Сталину позвоню, что паровоз не даете, а мы самолеты в Москву везем.
И бумажку ему показываю, где якобы у меня телефон написан. Так мне один из нашего караула подсказал делать. Подхватился тот начальник станции, побежал куда-то. И вскоре подцепили нам паровоз. В Москве мне ещё раз такой фокус пришлось сделать. Загнали на какой-то дальний путь и забыли про нас. Только припугнула, что Сталину позвоню, сразу вспомнили.
Отец сильно переживал за меня. В каждом письме с фронта писал: «Зачем вы Марусю в Куйбышев отпустили? Пропадёт она. Она же такая отчаянная». А я вон до сих пор живу. Из наших винновских – моих ровесников – я одна в живых осталась.
В мае 45-го мама прислала телеграмму на завод, что сильно заболела. Меня отпустили домой на пять дней. Приезжаю – в доме ни крошки. Толик с сестрёнкой меня терзают: есть хотим, есть хотим. Это мои сводные брат с сестрой. Моя мама умерла, когда мне пять лет было. Отец незадолго до начала войны женился на женщине, у которой сын был пяти лет и дочь трёхлетняя.
Раздобыла я пшена, муки немного, молоко было – корову держали. Оладьев напекла, каши сварила. Наелись ребятишки, довольные. Толик бегает вокруг стола: «Нянька не даст нам умереть». А тут по радио говорят: война кончилась. Мать – в крик. Отец ведь мой погиб на фронте. Бабушка моя, отцова мать, бежит. Обняла меня, кричит – у неё двое сыновей погибли. А тут соседка, жена погибшего Сашки Зыбанова, вывела на улицу девятерых своих детей осиротевших, кричит, воет. Вся улица, вся деревня – в крик. Так жутко было. Хотелось убежать, спрятаться от этого крика. Он оглушал, разрывал голову.
— Мама, я не могу больше! Я на завод уеду!
— Как же ты бросишь меня, больную? Что же с детьми-то будет? Побудь ещё.
Что тут поделаешь? Осталась я, конечно. И вот уж сколько лет прошло, а как только о войне что-то напомнит, я тот вой слышу.
После войны голод был страшный. Я понимала, что мать одна не поднимет ребятишек, поэтому в 47-м году замуж вышла и вернулась в Винновку. Отговаривали меня: все из колхоза, а ты в колхоз. Но я упрямая – если решила, не отступлюсь. Поеду, говорю, колхоз поднимать. 20 лет дояркой отработала.
Вот как-то прихожу к матери, они голодные сидят. Еды в доме – никакой. Толик с сестрой меня терзают опять: есть хотим. Вернулась я домой. Свекровь узнала, чем я так расстроена, дала ведро муки, хлеба каравай – только что испекла – и несколько дынь. Иди, говорит, корми ребятишек.
Вот уж как порадовала я их! Толик взял балалайку и давай плясать.
Сейчас ему уже 83 года. Так всю жизнь меня и называет няней. Мы с ним как родные, хоть и сводные. Звонит мне по три раза в неделю. И жена его, пока жива была, то и дело звонила: «Нянь, это Эля…» и про всё мне давай рассказывать. И радостями, и заботами делилась. Они часто у нас гостили, с семьями приезжали, с внуками. У нас хозяйство было: мясо, сало накоптим, птицу забьём – есть чем угостить. Я люблю готовить. И сейчас ещё и курник, и блины могу испечь. Картошку сама в погреб спускаю. Если уж уродилась боевая, это на всю жизнь. Хотя, конечно, силы уже не те, поэтому спасение моё – соцработник, ненаглядная моя Галина Калаганова. Она меня без малого 10 лет обслуживает. И все эти годы мы с ней – душа в душу. Она такая добрая, заботливая, внимательная. Между нами – полное доверие и взаимопонимание. А уж старательная какая! Всё на совесть делает. Хорошо, что у нас, стариков, есть такие помощники. Без них мы никуда.